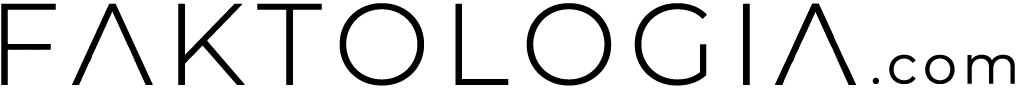С начала 2025 года индекс промышленного производства в Тюменской области (без учета автономных округов) снизился до 95,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это существенно ниже общероссийского показателя (100,8%) и контрастирует с ростом, зафиксированным в регионе годом ранее (100,5%). Однако за формальным спадом в промышленности скрывается сложная картина региональной экономики, где глубокие отраслевые провалы соседствуют с впечатляющими прорывами в отдельных сегментах и значительными объемами инвестиций.
- Промышленность в структурном кризисе: традиционные отрасли сдают позиции
Основной вклад в снижение общего индекса промышленного производства внесли обрабатывающие производства, которые продемонстрировали спад до 94,4%, тогда как в первом полугодии 2024 года они показывали рост на уровне 101,5%. Анализ отраслевой динамики выявляет две разнонаправленные тенденции, свидетельствующие о глубокой структурной перестройке региональной промышленности.
В зоне резкого снижения оказались традиционные для региона сектора. Наиболее значительное падение продемонстрировали химическое производство (90,8%) и производство резиновых и пластмассовых изделий (91,5%). По мнению отраслевых аналитиков, отрицательная динамика напрямую связана с работой основного локомотива экономики — компании «Сибур», которая действует в условиях жестких санкционных ограничений. К этому добавляются неблагоприятная конъюнктура мировых рынков, исчерпание прошлогодних запасов сырья и готовой продукции, а также сохраняющиеся логистические сложности. Спад также затронул производство пищевых продуктов (95%) и кокса и нефтепродуктов (98,7%), что указывает на системные проблемы в этих базовых сегментах.
Параллельно в зоне роста формируются наукоемкие и ориентированные на внутренний спрос отрасли. Машиностроение демонстрирует взрывную динамику: производство машин и оборудования выросло на 170%, а производство прочих транспортных средств и оборудования — на 150%. Столь высокие темпы, по оценкам экспертов, говорят о реализации масштабных проектов, вероятно, в рамках программ импортозамещения или выполнения крупного государственного заказа. Дополняет эту картину значительный рост в смежных секторах — ремонт и монтаж оборудования (135,7%) и производство электронных и оптических изделий (109,7%), что указывает на активное развитие сервисной и высокотехнологичной составляющей промышленного комплекса области.
Такой разрыв позволяет говорить не столько о кризисе промышленности в целом, сколько о ее активной структурной перестройке, считают аналитики. Экономика региона находится в процессе перехода от сырьевой и химической модели к более диверсифицированной — с акцентом на машиностроение и высокие технологии.
- Инвестиции и строительство: парадокс бума в условиях финансового шторма
Ключевым драйвером экономики области в отчетном периоде стали инвестиции в основной капитал, показавшие впечатляющий рост. Абсолютный объем инвестиций за полгода достиг 208,3 млрд рублей, что на 26,1% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. В сопоставимых ценах рост составил 118,7%, что означает увеличение капиталовложений на 18,7%.
Однако этот инвестиционный рост требует серьезных оговорок в условиях макроэкономической реальности. «Рост инвестиций на фоне ключевой ставки ЦБ в 20–22% и высокой инфляции выглядит как экономическое чудо, но у этого чуда есть простое объяснение, — комментирует один из аналитиков. — Мы наблюдаем не органический рост частных инвестиций, а реализацию крупных государственных и квазигосударственных проектов, которые финансируются из бюджетной системы или через льготные программы с субсидированием ставки».
Почти половина (49,6%) этих вложений направлена в промышленный сектор, что подтверждает тезис о его глубокой трансформации. «Инвестиции концентрируются в узких сегментах — машиностроении, оборонно-промышленном комплексе, импортозамещающих производствах, — отмечает отраслевой эксперт. — Это проекты скорее с административной, а не рыночной рентабельностью, их реализация диктуется стратегическими, а не коммерческими соображениями».
- Строительный сектор: рекордные объемы работ при падении жилищного строительства
Строительная отрасль демонстрирует выдающуюся динамику, став вторым после инвестиций локомотивом региональной экономики. Объем работ в сегменте вырос с 80,0 млрд рублей в первом полугодии 2024 года до 118,6 млрд рублей в первом полугодии 2025 года. Однако за этим формальным ростом скрывается структурный парадокс. Несмотря на увеличение объемов строительной деятельности, ввод жилья сократился на 12,7% — до 1,19 млн кв. м. Это противоречие объясняется переориентацией строительных мощностей региона с жилищного строительства на возведение промышленных, инфраструктурных и коммерческих объектов.
«Мы наблюдаем классический случай перетока ресурсов, — комментирует отраслевой аналитик. — Подрядчики и материалы уходят на выполнение крупных государственных и корпоративных заказов, где финансирование более гарантированно, а маржинальность часто выше, чем в рискованном жилищном строительстве».
Особую значимость этой тенденции придает показатель доли жилья, построенного населением за свой счет, который достиг 63,5% от общего ввода. «Эта цифра — индикатор кризиса коммерческого жилищного строительства, — отмечает эксперт по рынку недвижимости. — Когда рынок на две трети обеспечивается усилиями частных застройщиков, это сигнализирует о сворачивании деятельности крупных девелоперов. Высокие ставки по ипотеке и рост стоимости строительных материалов делают массовое жилье экономически невыгодным».
Инвестиционно-строительная активность в регионе представляет собой модель «административного бума» — интенсивного, но узконаправленного и зависимого от продолжения бюджетного финансирования. Для бизнеса это создает возможности для встраивания в цепочки поставок крупных проектов, но одновременно указывает на риски перенасыщения отдельных сегментов и зависимость от политических, а не рыночных циклов.
- Сельское хозяйство: номинальный рост скрывает реальное сокращение
Агропромышленный комплекс Тюменской области демонстрирует противоречивую динамику, где формальные показатели скрывают нарастающие структурные проблемы. В номинальном выражении сектор показывает уверенный рост: объем производства продукции вырос на 4,9%, достигнув 36,2 млрд рублей против 34,5 млрд рублей годом ранее. Однако за этим позитивом скрывается реальное сокращение физических объемов. Сводный индекс производства, очищенный от влияния цен, составил 99,9% к уровню прошлого года, что означает переход от слабого роста к статистической рецессии. Особую озабоченность вызывает растущее отставание от общероссийских показателей: разрыв увеличился с 0,6 до 1,6 процентного пункта за год (101,5% по РФ против 99,9% в области).
«Данная динамика — классический пример того, как инфляция маскирует структурные проблемы, — комментирует аграрный аналитик. — Номинальный рост обеспечивается ростом цен на сельхозпродукцию, в то время как физические объемы производства по ключевым направлениям сокращаются. Это сигнализирует не о развитии, а о снижении реальной эффективности сектора».
Например, ситуация в животноводстве приобретает характер системного кризиса. Производство мяса сократилось на 5,3%, достигнув 87,9 тыс. тонн, при этом темпы падения удвоились по сравнению с 2024 годом. Производство молока уменьшилось на 3,8% до 247,9 тыс. тонн, тогда как годом ранее отмечался рост на 1,2%. Парадоксальным образом продуктивность в молочном животноводстве продолжает расти — надой молока на одну корову увеличился на 3,6%. «Сокращение производства в мясном и молочном скотоводстве при росте надоев свидетельствует о серьезном сокращении поголовья, — объясняет отраслевой эксперт. — Это может быть связано с эффектом “высокой базы” после прошлогодних показателей, растущей себестоимостью кормов и концентрацией инвестиций в приоритетные промышленные сектора».
Однако яичное птицеводство демонстрирует впечатляющий рост на 14,9%, достигнув 690,8 млн штук, однако этот рост имеет экстенсивный характер. «Увеличение производства яиц при снижении яйценоскости на 4,1% указывает на наращивание мощностей за счет увеличения поголовья, а не повышения эффективности, — отмечает эксперт агропродовольственного рынка. — Это временное решение, которое не обеспечит устойчивого роста в долгосрочной перспективе и может привести к перепроизводству».
Агропромышленный комплекс региона демонстрирует ярко выраженную дивергенцию: бурный рост в птицеводстве сопровождается углубляющимся кризисом в традиционном мясомолочном скотоводстве. «Сложившаяся картина отражает общую экономическую динамику региона, где точечный рост в отдельных сегментах маскирует системные проблемы отрасли, — резюмирует независимый экономист. — Без комплексной программы поддержки традиционных направлений животноводства и перехода от экстенсивной к интенсивной модели роста регион рискует потерять свои позиции в аграрном секторе страны».
- Потребительский рынок и уровень жизни
Данные за первое полугодие 2025 года указывают на формирование тревожного тренда в сфере доходов населения и потребительского поведения. Несмотря на позитивные номинальные показатели, реальная покупательная способность жителей региона демонстрирует явные признаки стагнации, что отражается на структуре потребительских расходов.
Формальные показатели доходов населения Тюменской области продолжают демонстрировать уверенную динамику. Среднедушевые денежные доходы и номинальная заработная плата выросли на 13%, достигнув 54,7 тыс. рублей и 89,6 тыс. рублей в месяц соответственно. Однако после корректировки на инфляцию картина кардинально меняется. Реальная заработная плата увеличилась лишь на 2,7% — это в четыре раза ниже прошлогоднего темпа роста (9,8%). Еще более показательной является динамика реальных денежных доходов: их рост замедлился с 9,1% до 6%.
- Сдвиг потребительских приоритетов: от туризма к транспорту
Наиболее ярким подтверждением снижения покупательной способности стала не только динамика оборота розничной торговли, но и структурные изменения в потреблении услуг. Если в 2024 году население активно наращивало расходы на туристические услуги (рост 139,7%), то в 2025 году темпы роста этого сегмента снизились до 116,7%. При этом доля туризма в общем объеме услуг сократилась с 7,4% до 7,1%.
«Мы наблюдаем классическое перераспределение потребительских расходов в условиях сжатия реальных доходов, — отмечает аналитик потребительского рынка. — Население отказывается от дискреционных трат в пользу обязательных и социально значимых услуг. Особенно показательно появление в лидерах роста транспортных услуг с долей 18,9% — это свидетельствует о переориентации с отдыха на решение повседневных бытовых задач».
Сравнительный анализ данных за два года выявляет значимые изменения в потребительском поведении. Медицинские услуги сохранили лидерские позиции, хотя темпы роста снизились со 130,3% до 111,2%, при этом их доля в структуре увеличилась с 10,4% до 11,3%. Одновременно транспортные услуги вошли в число лидеров с долей 18,9% и ростом 104,1%, что свидетельствует о смещении приоритетов в сторону повседневной мобильности. Коммунальные услуги упрочили свои позиции с ростом 105,8% и значительным увеличением доли с 13,7% до 18,5%, в то время как бытовые услуги показали замедление роста со 116,5% до 108,9% при сокращении доли с 9,5% до 8,8%.
«Рост доли коммунальных и транспортных услуг при одновременном сокращении темпов роста туризма и бытовых услуг четко указывает на приоритизацию обязательных расходов, — отмечает экономист. — Население оптимизирует бюджет, сохраняя расходы на необходимые для жизнеобеспечения услуги, тогда как затраты на отдых и поддержание имущества постепенно сокращаются».
Структурные сдвиги в потребительском поведении уже оказывают заметное влияние на экономику региона. Оборот розничной торговли в реальном выражении вырос лишь на 1,6% против 15,7% годом ранее, что свидетельствует о стагнации в физическом объеме продаж товаров.
«Для региональной экономики это означает необходимость пересмотра модели роста, — резюмирует независимый экономический эксперт. — Период, когда потребительский спрос выступал главным драйвером экономики, заканчивается. Бизнесу придется адаптироваться к новой реальности — эпохе осмотрительного потребления, где приоритет отдается не товарам длительного пользования, а базовым услугам, обеспечивающим повседневные потребности населения».
Таким образом, за формально позитивной статистикой номинального роста доходов скрывается не только серьезное замедление покупательной способности населения, но и фундаментальное перераспределение потребительских расходов в пользу обязательных и социально значимых услуг, что требует корректировки экономической стратегии развития региона.
- Рынок труда: признаки перегрева и кадрового голода
Рынок труда Тюменской области демонстрирует признаки значительного улучшения, однако за позитивной статистикой скрываются серьезные вызовы, связанные с дефицитом кадров. Уровень безработицы по методологии МОТ снизился с 2,4% во втором квартале 2024 года до 1,8% в аналогичном периоде 2025 года, что существенно ниже среднероссийского показателя (2,2%). Еще более показательной является динамика регистрируемой безработицы, которая хотя и незначительно выросла с 0,27% до 0,30%, остается на уровне, значительно более низком, чем в среднем по России (0,40%).
Ключевым индикатором, свидетельствующим о перегреве регионального рынка труда, является коэффициент напряженности. За год показатель вырос с 0,09 до 0,12 человек на одну вакансию, что, тем не менее, значительно лучше общероссийского уровня (0,19). «Рост коэффициента напряженности при одновременном снижении общего уровня безработицы указывает на структурный дисбаланс, — комментирует эксперт по рынку труда. — Количество вакансий растет быстрее, чем численность экономически активного населения, что ведет к обострению конкуренции за квалифицированные кадры».
Сложившаяся ситуация напрямую связана с инвестиционной активностью в регионе. «Массовый запуск новых производственных и строительных проектов создает концентрацию спроса на труд в специфических секторах, — отмечает экономист. — При этом традиционные отрасли, такие как обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство, испытывают острый кадровый голод, не имея возможности конкурировать с зарплатами в стройкомплексе и машиностроении».
Сверхнизкая безработица создает комплекс серьезных рисков для региональной экономики, проявляющихся в ускоренном росте заработных плат, что увеличивает издержки бизнеса и снижает его конкурентоспособность. Одновременно обостряется конкуренция за квалифицированные кадры между предприятиями различных отраслей, что создает структурные перекосы на рынке труда. Возникающие кадровые ограничения начинают сдерживать дальнейший экономический рост, а усиление миграционного оттока квалифицированных специалистов в соседние регионы с более высокими зарплатами усугубляет демографические и трудовые дисбалансы.
«Снижение безработицы ниже естественного уровня — это не только позитивный тренд, но и серьезный вызов, — резюмирует независимый экономист. — Без активной политики по привлечению трудовых ресурсов и переобучению кадров регион может столкнуться с ограничениями для реализации своих инвестиционных проектов и устойчивого экономического роста».
- Выводы для бизнеса и инвесторов: регион дивергенции и новых возможностей
Тюменская область демонстрирует уникальный кейс макроэкономической дивергенции, где инвестиционный бум соседствует с промышленным спадом. Ключевой тренд — фундаментальная переориентация экономики: традиционные нефтехимические отрасли уступают место машиностроению и высокотехнологичным производствам, что открывает новые ниши для поставщиков и сервисных компаний.
Потребительский сектор сохраняет устойчивость, обеспечивая стабильность в период трансформации. Однако главным вызовом становится перегрев рынка труда. Сверхнизкая безработица (1,8%) и растущая конкуренция за кадры создают значительное давление на заработные платы и ограничивают потенциал роста. Успешность инвестиционных проектов будет напрямую зависеть от решения кадровой проблемы — без привлечения трудовых ресурсов и переобучения специалистов регион столкнется с ограничениями в реализации своего экономического потенциала.
Таким образом, текущее положение дел в Тюменской области следует расценивать не как кризис, а как вызванную внешними обстоятельствами болезненную фазу глубокой структурной перестройки, спровоцированную санкционными ограничениями, высокой ключевой ставкой и необходимостью адаптации к новым экономическим условиям. Успех этой трансформации будет зависеть от того, смогут ли новые точки роста компенсировать спад в старых индустриях в долгосрочной перспективе.