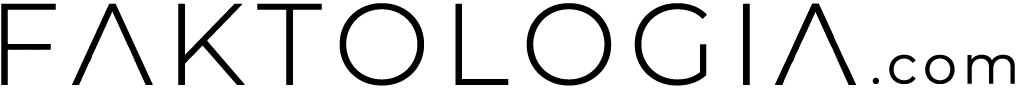Инициатива губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова о начале проработки мер поддержки для разработки трудноизвлекаемого (ТрИЗ) газа вызвала ключевой спор на сессии в рамках «Российской энергетической недели». Его призыв, поддержанный депутатом Госдумы Павлом Завальным и заместителем министра энергетики Павлом Сорокиным, столкнулся с жёсткой позицией Министерства финансов. Замминистра Алексей Сазонов не только раскритиковал размытость самого понятия, но и поставил под сомнение необходимость новых льгот, задав центральный для дискуссии вопрос: «Кто заплатит за ТрИЗ?».
- Аргументы региона: Истощение запасов и стратегическая инфраструктура
Артюхов, чей регион сталкивается с истощением традиционных месторождений, указал, что газовая отрасль повторяет путь нефтяной, где вопрос стимулирования освоения трудноизвлекаемых запасов решается уже два десятилетия. «Конечно, наша доля в масштабах стимулирования со стороны общей налоговой системы мала, но все вместе это тоже должно быть на повестке для поддержки трудных запасов. Главная, конечно, для нас тема — это газ, то есть стимулирование уже трудного газа. Страна потихоньку приходит к этой теме. То, что нефтяники проходили долгих 20 лет, сегодня на повестке очень серьёзно стоит уже тематика стимулирования газа», — заявил губернатор.

Масштаб проблемы озвучил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. «Сегодня месторождения газа в Надым-Пур-Тазовском районе на Ямале значительно выработаны. Если в 2010 году текущая добыча составляла 537 млрд куб. м газа, то в прошедшем году — всего 387 млрд, минус 30% от текущей добычи», — констатировал он.
При этом, по его словам, объём трудноизвлекаемых запасов газа в регионе достигает 6 трлн куб. м, из которых около 2 трлн куб. м относятся к низконапорному газу и рискуют быть потерянными. «И на наш взгляд, настало время оценить газовые месторождения и рассмотреть возможность дифференциации ставки налогообложения по мере их истощения, определить критерии для того, чтобы эти два триллиона, которые сегодня можно отнести к низконапорному газу, тоже можно было добывать. То есть начать этим заниматься. Я не говорю, что прямо завтра надо принять решение, но начать заниматься, принять критерии, чтобы этот вопрос начать разрабатываться…», — призвал Завальный.
Дмитрий Артюхов развил эту мысль, подчеркнув стратегическое значение уже созданной инфраструктуры. «Надым-Пур-Тазовский регион десятилетиями обеспечивал газом всю страну. Мы — северное государство, и нам самим необходим значительный объём газа для отопительного сезона и промышленности. Даже в пиковые годы на экспорт уходило не более четверти добычи — это была самая маржинальная часть, но три четверти шли на внутренние нужды. Вопрос в том, откуда брать газ теперь. Конечно, можно осваивать новые месторождения, включая шельфовые, — там запасы исчисляются триллионами кубометров. Но колоссальные ресурсы находятся прямо у нас под ногами — в регионе с уже построенной инфраструктурой, городами и подготовленными кадрами. Проблема в том, что их разработка сегодня нерентабельна. При этом мы не можем бесконечно откладывать этот вопрос — с каждым годом мы безвозвратно теряем часть ресурса из-за естественных процессов, таких как обводнённость месторождений. Решения должны быть приняты в ближайшие годы — нам нужна продуманная модель разработки, учитывающая как интересы бюджета, так и технологические реалии», — отметил губернатор.
- Позиция Минфина: стимулировать технологии, а не низкорентабельные активы
Эти аргументы, однако, натолкнулись на скепсис статс-секретаря — заместителя министра финансов Алексея Сазонова. Его реакция после выступления Артюхова была резкой. «Я сейчас послушал выступление, замечательное выступление… У нас есть ТРИЗ в нефти, ТРИЗ в редкоземельных металлах, ТрИЗ в железорудном сырье. Сейчас вот нам говорят, что нужно ТрИЗ в газе разрабатывать, и везде нужны льготы», — начал он, саркастически добавив: «Мы так доберёмся до ТрИЗ по добыче воды, наверное».
Ключевым контраргументом Сазонова стала терминологическая неопределённость. «Остаётся только понять, и вот для меня это до сих пор загадка, что же такое ТРИЗ. Пока это как “лабубу” у детей — что-то очень непонятное, но интересное», — заявил он, иллюстрируя свою мысль примером из диалогов с компаниями.
«Когда мы разговариваем, например, с “Татнефтью”, они говорят: “Ну вот низкодебитная скважина — тоже ТрИЗ”. Ну где же там технологии? Это низкодебитная скважина. Какие там технологии, где там стек? Никакого стека нет. Все давно знают, как бурить низкодебитные скважины», — продолжил замминистра, противопоставляя это сложным технологиям вроде многоступенчатого ГРП или полимерного заводнения.
Чиновник настаивал на фундаментальном различии подходов: «Если мы хотим стимулировать новые технологии, тогда это одно дело. Но если мы говорим, что низкодебитные скважины тоже ТРИЗ, уплотнение сетки скважин — тоже ТРИЗ, тогда это не про технологии совсем».

При этом Сазонов обратил внимание на отраслевую специфику: «Если мы все же про технологии, то тогда никогда под ТрИЗ не попадут низкодебитные скважины и в целом уплотнение сетки скважин, которым активно занимается, например, “Сургутнефтегаз”. То есть он всегда будет без льгот».
Он подчеркнул, что без чёткого определения, что именно следует стимулировать — принципиально новые технологии или просто низкорентабельные активы, — обсуждать налоговые послабления преждевременно. «Мы постоянно призываем и нефтяные, и газовые компании к одному: необходимо чётко сформулировать, что такое ТрИЗ и что мы хотим стимулировать. Потому что пока мы не определимся с понятийным аппаратом, пока мы не поймём целеполагание, то переходить к налоговым льготам — преждевременно», — указал Сазонов, добавив, что существующие налоговые механизмы позволяют решать эти задачи.
«У нас уже есть наработанная практика, и наша позиция заключается в следующем: если и расширять меры налогового стимулирования для нефтяной отрасли, то делать это необходимо в рамках существующей рабочей модели — я имею в виду налог на добавочный доход (НДД). Именно этот механизм следует развивать и тиражировать, вместо того чтобы вводить новые адресные инструменты, будь то специальные вычеты или послабления по НДПИ», — резюмировал замминистра.
- Мнение Минэнерго: Поиск компромисса и гибких решений
Прямой вопрос модератора сессии к первому заместителю министра энергетики Павлу Сорокину — «В Минэнерго знаете, что такое ТрИЗ?» — высветил методологический тупик, в котором оказалась дискуссия. Чиновник ответил философски: «Жизнь становится труднее, поэтому всё и становится трудноизвлекаемым. Поэтому во всех отраслях. Поэтому мы здесь просим понять и простить».
Сорокин признал, что единого подхода пока нет, и это системная проблема. «Классификаторы ТрИЗ сейчас есть, но официально они не закреплены. И в этом проблема, потому что каждая компания будет считать, что у неё самый трудный ТрИЗ», — пояснил он, анонсируя необходимость запуска экспериментального режима, в рамках которого можно было бы отработать «динамическую» классификацию.
При этом он частично поддержал аргумент Сазонова о низкодебитных скважинах, но с важной оговоркой: «Если компания может бурить низкодебитные скважины с низким капексом, который позволяет иметь экономику, то это тоже технологический ноу-хау… Не каждая компания это может, многие просто закрывают такие скважины». Таким образом, представитель Минэнерго предложил компромиссный путь: не отказываться от стимулирования, но подходить к нему точечно, изучая отдельные кейсы и параллельно создавая гибкую систему классификации.
- Попытка договориться о терминах: «Льготы» или «условия»?
Попытку снять терминологическое напряжение и сместить акцент с «льгот» на «условия» предпринял Павел Завальный. «Мне не нравится слово “льготы”… Мы должны говорить о создании налоговых экономических условий разработки месторождения», — заявил депутат, проводя прямую аналогию с действующей налоговой системой. — «У нас, опять же, даже в НДФЛ ввели дифференциацию. Кто побогаче, сейчас побольше платит. Кто победнее, поменьше платит. Но то же самое и месторождения — они разные».
Завальный настаивал, что речь идёт не о преференциях, а о дифференцированном подходе, учитывающем глубину залегания, отдалённость и другие факторы, влияющие на рентабельность. «Чем лучше мы умеем считать эти затраты на стадии проектирования, тем больше доверия со стороны Минфина, и мы быстрее договариваемся», — пояснил он.

В качестве успешного примера такого подхода депутат привёл налог на добавочный доход (НДД), который назвал «налогово-экономическим режимом». «НДД — это не просто налоговый режим. Здесь налоговая нагрузка снижается на тонну добытой нефти, но за счёт создания экономических условий, сначала возврата денег инвестору, мы, с одной стороны, снижаем удельную налоговую нагрузку, с другой — увеличиваем общий объём добычи, срок службы месторождения. В итоге валовый налоговый сбор больше, сохраняются рабочие места — экономика начинает работать», — разъяснил Завальный.
Завершая свою мысль, он прямо обратился к оппоненту из Минфина: «Поэтому давайте не говорить о “льготах”, давайте говорить о дифференциации условий разработки месторождения. И так мы быстрее договоримся. Алексей, согласен?» — обратился он к Сазонову.
Ответ Сазонова прозвучал как вежливая, но принципиальная отповедь. «Суть-то та же остаётся», — парировал он, давая понять, что переименование льгот в «дифференциацию условий» не меняет фискальной сути вопроса.
- Цена ТрИЗ: Почему финальное слово осталось за Минфином
Финальный акт дискуссии наглядно продемонстрировал, что спор о ТРИЗ вышел за рамки терминологии и упирается в фундаментальный выбор экономической стратегии. Сначала первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин представил развёрнутую концепцию перехода от рентной экономики к экономике технологического развития.
«ТрИЗ — это уже не специальная категория, а основа нашей будущей добычи. Нам нужно уйти от идеологических споров и трезво оценивать наши активы: углеводороды — это данность, которую нужно максимально эффективно использовать», — заявил он.
Сорокин подробно описал происходящую трансформацию: «Если раньше мы могли изымать и перераспределять ренту, то с переходом на ТрИЗ эта модель исчерпывает себя. Рента будет объективно снижаться — это неизбежный процесс, когда трудноизвлекаемые запасы становятся доминирующими в структуре добычи».
Однако, по его мнению, это открывает новые возможности: «Да, ТрИЗ дороже в разработке, но если мы создаём собственные технологии, то все эти деньги остаются внутри страны. Представьте цепочку: завод в Тюмени производит роторно-управляемую систему, используя компоненты из Зеленограда, а оператор из Салехарда работает на месторождении — это полный производственный цикл в России».
Приведя конкретные расчёты, замминистра энергетики показал масштаб потенциального экономического эффекта: «Если сегодня объём капзатрат в бурении составляет 1,5–2 трлн рублей в год, то с массовой разработкой ТрИЗ мы можем выйти на 4–5 трлн. Это дополнительно 3,5 трлн рублей, которые будут работать в российской экономике через налоги, зарплаты и развитие смежных отраслей».
Сорокин подчеркнул, что речь идёт не просто о поддержке отрасли, а о создании долгосрочного драйвера: «ТрИЗ для нас — это один из немногих чётко прогнозируемых и понятных драйверов экономики на горизонте 25–30 лет. Не использовать эту возможность было бы стратегической ошибкой».

Однако финальную и главную точку в дискуссии поставил Алексей Сазонов, вернув участников к суровой бюджетной арифметике. «Я слушал. На самом деле, знаете, у меня только один вопрос остался: Кто заплатит за ТрИЗ?» — обратился он к коллегам.
Замминистра финансов сформулировал дилемму, перед которой оказываются все предложения по стимулированию: «Если доходы снижаются — а это объективный тренд, — то надо либо искать иные источники, либо сокращать расходы. В любом из этих случаев кто-то заплатит».
Таким образом, стратегическое видение Минэнерго столкнулось с фискальным консерватизмом Минфина. Заключительная реплика Сазонова — «Вот когда мы на него ответим, у нас будет завершённая дискуссия» — оставила все остальные аргументы в подвешенном состоянии, обозначив главное противоречие: как совместить необходимость инвестиций в сложную добычу с неизбежным снижением нефтегазовой ренты и нагрузкой на бюджет.